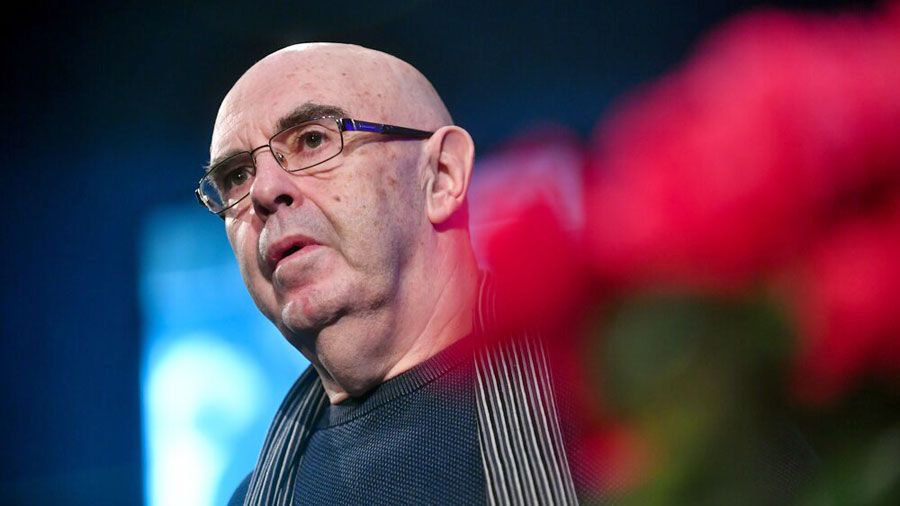16.05.2022
В театре «Эрмитаж» премьера: «Новый Мокинпотт» по пьесе немецкого драматурга Петера Вайса «О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился». Историю этой постановки длиною в полвека режиссер Михаил Левитин рассказал в интервью «Культуре».
В 1969 году в Театре на Таганке, который был тогда первым по популярности театром страны, двадцатилетний режиссер Михаил Левитин выпустил спектакль по пьесе Петера Вайса «О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился». Немецкий драматург, последователь Бертольда Брехта, сделал героем своей пьесы обывателя, который недоумевает, в чем причина свалившихся ему на голову несчастий. Спектакль имел огромный успех, но на сцене продержался недолго — его запретили. Спустя полвека с лишним Михаил Левитин решил выпустить на сцену «Нового Мокинпотта» и посвятить спектакль старой Таганке, а именно Юрию Любимову, Николаю Губенко, Владимиру Высоцкому и другим людям, связанным с этим ослепительным, уходящим в прошлое театром.
— Михаил Захарович, что заставило вас вернуться к пьесе, которую вы поставили полвека назад?
— Решение пришло очень внезапно. Несколько месяцев назад я проснулся с мыслью: «Мокинпотта» ставь! «Мокинпотта»!
— Пьеса как будто сегодня написана, на злобу дня. Каждый из нас сегодня чувствует себя Мокинпоттом, который спрашивает себя: «За что мне это?»
— Я всегда ставлю, что я хочу, и никакое время на меня не влияло, не влияет и влиять не будет. Может, немножко кривлю душой, но очень немножко. Юрий Петрович Любимов упрекал меня за то, что мне неинтересна политика. «Вы балетмейстер, а не политик! Сахаров под домашним арестом, а вы балетом занимаетесь». Я был бы рад, если бы он посмотрел сегодняшний спектакль и понял, что я не только балетмейстер. Но не политик, нет. Быть политиком для меня унизительно.
— Как получилось, что двадцатилетнему выпускнику ГИТИСа позволили поставить спектакль не просто на большой сцене, но на сцене одного из самых знаменитых театров страны?
— Это вышло случайно. Я шел мимо Театра на Таганке с моим другом Сережей Никулиным, он посмотрел в Риге мою «Синюю птицу» и был ею очень сильно доволен. Вдруг он спрашивает меня: «А что ты будешь делать с дипломным спектаклем?» Я сказал, что пока не знаю. Я был всегда уверен, что все само придет ко мне в руки, поэтому ничего в жизни не добивался, кроме здания театра «Эрмитаж». Он говорит: «Ну, вот «Таганка». Иди к Юрию Петровичу, он даст тебе спектакль».
— Шутил над вами?
— Нет, он, наверное, верил в мою удачу. Я ему сказал, что, во-первых, терпеть не могу этот театр. Во-вторых, Юрий Петрович — самый популярный человек в театральной Москве, почему он должен мне, мальчишке из ГИТИСа, без репутации, дать спектакль? Никулин говорит: «Иди! Я тебя подожду, только купи мне мороженое». И я иду. Меня легко пропустили сквозь служебный вход, не спросив, кто я и куда направляюсь, — это меня поразило. Я сразу пошел наверх, в приемную, там торчали люди, как я понял, кандидаты в постановщики, они смотрели на меня жадно, недоброжелательно.
Дверь в кабинет Юрия Петровича была полуоткрыта — этим он давал понять всем, что ничего не скрывает. Я вошел. Из-за стола встал человек в джинсовом костюме, тогда это было модно, седой, очень красивый. И смотрит мне куда-то в живот. Я еще подумал: для того, чтобы не смотреть в глаза, что ли? Я назвал свою фамилию, сказал, что ученик Завадского, хочу поставить на Таганке спектакль. «А как ваше имя-отчество?» — спросил он. Я ответил: «Михаил Захарович». — «Садитесь, Михаил Захарович. Что вы хотите поставить?» — «Командарм 2» Ильи Сельвинского. — «Но ведь Мейерхольд его уже ставил» — «Я знаю». Думаю, этой репликой я его поразил, он подумал «Надо же, какой нахальный мальчик» и стал спрашивать, как я вижу эту постановку. Я давно носился с этой пьесой и рассказал какие-то вещи. Мне показалось, что ему понравилось.
Единственное, я не знал, что разговор о Сельвинском в этом кабинете невозможен, потому что Сельвинский был автором статьи о «Моцарте и Сальери» в Театре Вахтангова, где написал: «В роли Моцарта — Юрий Любимов, простой, хороший советский парень». После этого точно можно было закрыть тему.
Юрий Петрович послушал меня чуть-чуть и говорит: «Ну, хорошо, «Командарма» вряд ли мы сумеем поставить, а вот у меня есть пьеса Петера Вайса «О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился». Я дам вам ее почитать, и вы скажете, нравится она вам или нет. Завтра можете сказать?» – «Ну, я завтра и скажу». Он дал мне пьесу, я обрадовался: «В стихах, как хорошо». Вышел, Сережа спрашивает: «Ну, что, все в порядке?» Я говорю: «Мне что-то дали почитать и, может быть, поставить». — «Ну, видишь, как хорошо. Пойдем дальше гулять». Так совершенно мимоходом, во время прогулки, я получил предложение поставить спектакль, подумать только, в театре на Таганке! За все время существования театра, кроме самого Любимова, там ставили только три режиссера: Эфрос, Фоменко и я.
Дома я прочитал пьесу, и она мне очень не понравилась. Очень!
Я думаю: ну, опять ты влип в политику эту вонючую, которую терпеть не можешь. Но, тем не менее, стихи были очень легкие, в переводе блестящего Гинзбурга, я тогда его еще не знал, и постановка могла быть потрясающе интересной.
Одним словом, на следующий день я снова пришел к Юрию Петровичу и говорю ему: «Вы знаете, восторга пьеса у меня не вызвала, но ставить я ее могу. Я ее слышу, как будто бы она во мне существует». — «А кого вы видите в главных ролях?» Я далеко не всех знал в этом театре, но кого-то я видел, потому что смотрел «Доброго человека из Сезуана» в училище. Зинаида Славина, которая играла в этой спектакле главную роль, для меня была обязательной. Я назвал ее и, на всякий случай, всех, кто был мне известен: Губенко, Демидова, Высоцкий, Смехов… «Вот эти люди будут у меня заняты». Список был гигантский, но Юрий Петрович его подписал, и все было как-то хорошо.
— Я где-то читала, что Юрий Петрович предложил вам эту постановку, чтобы вы проторили для него дорогу. Он хотел поставить другую пьесу того же автора, «Марат-Сад», но предполагал, что ему не разрешат ее ставить. А вы человек новый, молодой, вашу постановку могут пропустить, будет, так сказать, прецедент. А после вас и он сможет заявить свой спектакль.
— Версий было много, Смехов мне сказал потом: «О тебе уже все ему звонили». Как звонили? Я поднялся снизу, впервые вошел в этот театр, он не знал ни имени, ни фамилии, ничего. «А почему он тебе дал спектакль, если не звонили?» — спрашивает Смехов совершенно объективно. — «Думаю, потому, что я Захарович. Папа Юрия Петровича — Петр Захарович, его расстрелянный дед — Захар, и это имя для него такое же дорогое, как для меня. Так что я проник туда через этого Захара». — «Ты так думаешь? — говорит Веня. — Я поражен». А что тут поражаться? Это так понятно.
И потом, я сразу понял, что имею дело не с художественным руководителем, а с артистом.
— Артистом вахтанговской школы, сыгравшим больше тридцати ролей на сцене театра имени Вахтангова и несколько заметных ролей в кино, в том числе в «Кубанских казаках» Пырьева.
— Он был великий артист, и я сразу это угадал. А к артистам у меня всегда были ключики, которыми я до сих пор актерские души открываю. Были два-три случая в жизни, когда я не открыл, потому что эти люди мне были несимпатичны, а тут такой красивый, чудный мужчина, артист, с которым можно было поставить спектакль. Я так и отнесся к нему, как будто я даю ему роль в своем спектакле, а не он мне дает.
«Вот только Высоцкого не занимайте, он болеет», — говорил Юрий Петрович. А я о Высоцком ничего не знаю. Ничего! Слышал только: «А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты». И думаю: что ж такое… Нет, я займу, раз решил.
Я не испытывал к нему ровным счетом ничего из того, что я испытываю сейчас, когда он в моем сердце, крепко в моем сердце. Ничего! Какой-то рыжеватый, добрый, ласковый, хороший маленький артист. Маленький артист. Я не помню, опоздал ли он на первую репетицию или пришел только на вторую, но помню, что у нас был легкий, смешной диалог. Высоцкий стоял в дверях, я говорю: «Заходите, Владимир Семенович». А он поправляет: «Володя». — «Владимир Семенович». — «Володя». И так раз пять я повторил «Владимир Семенович». Пока он не сказал: «Ну, ладно», — и вошел.
И вот сидят они оба передо мной, Губенко и Высоцкий, смотрят на меня очень внимательно. Высоцкий сказал: «Ну, что, Коля, давай». Я показал — и они пошли это делать. Хорошие люди они были, и профессионалы хорошие, только один прекрасный артист, а другой нет. Месяц надо было, чтобы сделать этот спектакль, но Володя исчез через четыре репетиции. Я ничего не потерял, потому что сложную пластику, прихотливую, которую я от него ждал, я не получил. Он только сам себя играл. Ритмы у него не Вайсовские, и пластика тоже своя, угловатая, хулиганская, можно сказать, полу-уголовная, как будто в подъезде тебя бьют, в подворотне.
Вроде бы это имеет отношение к Вайсу, к черту, который сопровождает Макинпотта, но у меня черт был изысканный. В общем, Володя слинял из спектакля, и я говорю Юрию Петровичу: «Исчез ваш артист». — «Я же вам говорил, что он болеет». — «Ну, как же так можно? Как можно не приходить на репетиции?» Я недоумевал. А через несколько дней встретил в пять часов дня, в нерабочее время идущего из буфета Высоцкого.
Я стою, а он спускается из буфета, нет ни зрителей, ни актеров, но есть буфетчица, которая, вероятно, знала о его пристрастиях. Он идет, небритый, запущенный, маленький человечек. И вот тогда я как-то почувствовал его впервые. И строгим голосом, режиссерским, говорю: «Владимир Семенович, почему не ходите на репетиции?» Пауза. И вдруг откуда-то, из какой-то глубины этот голос, известный всем: «Когда мы научимся понимать друг друга?» Это было для меня ударом. Первая моя мысль была колоссально наивной: почему я должен его понимать? Почему он не понимает меня, своего режиссера? Что это за призыв ко мне — понимать его?
В спектакле его заменил Хмельницкий, который был пластически изумителен, все остальное не так важно, но пластика была очень хороша. Высоцкий появился на премьере с какими-то двумя хорошенькими блондинками, и говорит мне после спектакля: «Если вы хотите, мы можем поговорить с вами, я вам расскажу свои впечатления». Я сказал: «Хорошо». И никогда не подошел, не позвонил, не узнал его впечатления. Сказать, что я себя ненавижу за это, это не сказать ровным счетом ничего. Но я честно признаюсь, это было. Молодость безобразная, уверенность в себе, самоуверенность жуткая, да еще я и не знал, кто он такой. Совершенно не знал, ничего не знал. Хоть что-нибудь слышал бы. Я пишущий человек, поступал в ГИТИС со своими рассказами, всю жизнь писал, и для меня все было в тысячу раз понятнее, интереснее через отношение к литературе. Он был бы мне чрезвычайно важен! Но не стал.
Тогда было не до этого — спектакль, спектакль, спектакль. Сделали все с Колей Губенко, с Николаем Николаевичем, это лучший артист в моей жизни. И дальше интересный момент: в тот день, когда я должен был выйти на большую сцену, вынести на нее все то, что мы сделали в репетиционном зале, Таганку уже трясло, собрался полный зал работников театра. Но я не понимал, почему они собрались. А дело было в том, что Коля, фактически непьющий, пришел раньше меня часа на полтора-два, позвал реквизитора или бутафора, и выпил с ним бутылку коньяка. И когда я вышел, такой довольный, — это был мой первый московский спектакль, с прекрасными людьми, Алла Демидова работала изумительно, Смехов лихо, и гениально Рамзес Джабраилов, — и сказал: «Ну, давайте начнем», Николай Николаевич, с виду трезвый, начал со мной спорить по каждой сцене, а потом пошел наверх, в отдел кадров, и написал заявление об уходе словами из пьесы, которую мы играли. «Я пошел, разрешите откланяться. Зовут меня Вурст, пока, до свиданьица».
Он решил уйти с Таганки в четвертый раз, и действительно на пару лет ушел. И я должен был все начинать сначала! Репетировал с Шаповаловым, которого не очень любил, но он играл с самоотдачей, со страстностью, очень хотел — главная роль, первая в его жизни. Сыграл ее для публики очень достойно, публика относилась к нему очень хорошо, а я нет.
— Спектакль легендарный, публика на него ломилась, люди в зрительном зале рыдали от смеха. Но сняли «Мокинпотта» очень быстро, почему?
— Потому что Петер Вайс написал пьесу о Троцком, и после этого надо было все его пьесы снимать. Спектакль прошел всего сорок пять раз, и его закрыли.
— Отличный был старт для молодого режиссера.
— После «Мокинпотта» меня двенадцать лет никуда не брали. Мне давали ставить — Театр Моссовета, ТЮЗ, в котором в те годы главным режиссером был Хомский, но в штат не брали. Двенадцать лет я знал, что я буду ставить, получать гроши, жить на эти гроши со своей женой и не иметь уверенности в завтрашнем дне. У меня не было постоянной работы, но работа была у меня всегда. Когда я не ставил, я писал книги, и потому был совершенно спокоен. Совершенно спокоен! Слава богу, если не ставил, я мог писать.
— Недавно вышла ваша двадцатая книга, «Невероятная легкость и ужасное любопытство», вы там вспоминаете, как присмотрели для себя театр, который сейчас называется «Эрмитаж», а тогда был театром миниатюр, и после долгих мытарств пришли в него вместе с Жванецким, Карцевым и Ильченко.
— Это удивительная тройка была, я их помню, божественные мои друзья. И я много с ними работал, очень много. Во время того же «Мокинпотта» звонит мне Миша, Михаил Михайлович Жванецкий, и говорит, не видя спектакля: «Послушай, Райкин хочет к тебе прийти. Я его приведу?» На «ты», по-моему, сразу. Я говорю: «Конечно!» И пришел Райкин, мы познакомились. Потом он меня спрашивает: «А ты бываешь дома, в Одессе?» — «Бываю. Каждое лето приезжаю». — «А ты не можешь с моими ребятами поработать?» И я каждое лето, приезжая в Одессу, репетировал в Доме офицеров с Карцевым и Ильченко. Оттуда и возникли мои три постановки – в Ленинградском театре комедии, где я поставил свой первый спектакль с великим художником Давидом Боровским, «Концерт для…» по Жванецкому, и у себя в «Эрмитаже» два спектакля.
— «Концерт для…» в Театре комедии тоже ведь закрыли очень быстро.
— На тринадцатом спектакле. Наши спектакли были объявлены главными идеологическими ошибками сезона, и нас закрыли.
— «За искажение действительности» — я где-то читала.
— Там же одна любовь была! Какая действительность? Я тогда владел этой темой. Тогда я и приглядел себе в саду «Эрмитаж» театрик. Я никогда не хотел нигде служить в то время, постоянно и крепко, все время были какие-то спектакли, я хотел свободы. Но так мне понравился этот особнячок, где в тот момент находился очень проблемный Театр миниатюр.
— Как он стал вашим?
— Благодаря вот этой гениальной троице, которую я уговорил переехать в Москву. Моя идея была — идти в Театр миниатюр, который все равно закрывают, чтобы его спасти. Миша связался с очень плохим человеком, который у Любимова потом закрывал спектакли, это был замначальника главка Шкодин, он их любил, поэтому они пришли к нему и сказали: «У нас свой режиссер». Но меня сразу не утвердили. Только когда я поставил «Хармс! Чармс! Шардам! Или «Школа клоунов», первый в мире спектакль по обэриутам, по Хармсу — тут уж сам дьявол дал бы мне театр. Главк говорит: «Ну, что с ним делать, смотрите, что творится, от Садового кольца стоят в очереди в кассу люди, пройти нельзя…»
— Вы ввели в «Нового Мокинпотта» людей из того, старого спектакля, которому уже пятьдесят три года. В декорацию внедрены портреты тех, кто участвовал в его создании, в тройке участников «мирового правительства» угадывается Юрий Петрович Любимов. А есть здесь мизансцены, которые вы перенесли из старого спектакля?
— Ни одной мизансцены, ни одного актерского решения, ни одной краски, ни одного жеста не взято оттуда. Не потому, что я так хочу – спустя пятьдесят три года я все вижу иначе. Я все вижу иначе и все люблю иначе. Это не просто другой спектакль, это кошмарно другой спектакль. Это моя биография.
— То есть это вы — господин Мокинпотт?
— Может быть, частично я. Это моя жизнь через Мокинпотта. Это жулье, которое меня окружало и окружает, как мне кажется. Я их тоже люблю, я сам бывал жульем, авантюристом уж точно. Спектакль другой, потому что сегодня «Господин Мокинпотт» воспринимается по-другому. Я сказал своим актерам: раньше мир делился на обывателей — и еще каких-то людей. Сейчас все мы — пыль. И если вдруг из пыли появляется один человек и спрашивает: «Что случилось? Что вы хотите от меня? Почему со мной это происходит?» — ты узнаешь в нем себя.
Фотографии: Сергей Киселев и Пелагия Тихонова / АГН Москва.