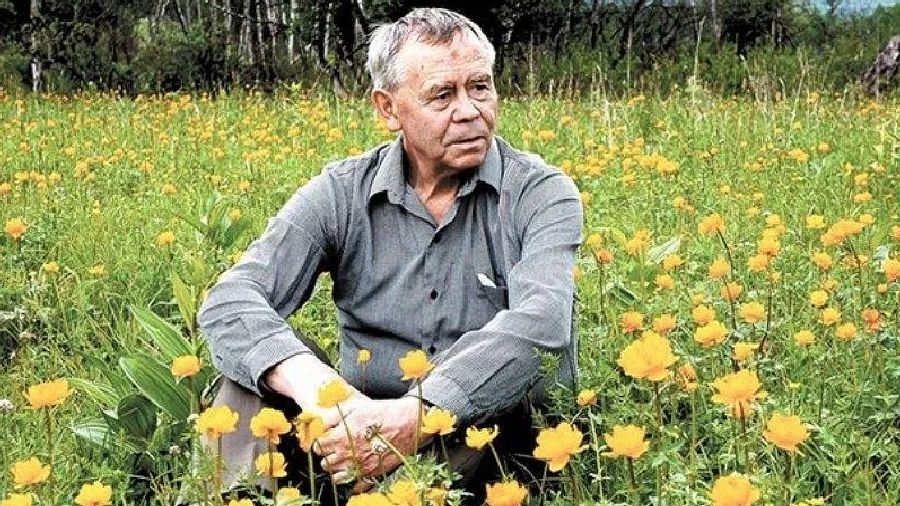15.03.2022
Мало кто из наших литераторов умел так глубоко и пронзительно описать саму душу земли русской, которую мучили, уродовали весь ХХ век и почти вытравили на его исходе, выстудили «ветрами перемен». Валентин Распутин оставил нам цельный образ Матёры — канувшей в воды безжалостного времени русской Атлантиды, потрясающие образы соотечественников, хранивших Русь веками, упиравшихся до последнего в противостоянии с бездушным мороком «новой реальности». Несчастий на его долю выпало слишком много: смерть сына-первенца, любимой дочери, жены, растянувшаяся социальная катастрофа в родной стране… Ранее, в 1979 году, ему на пике литературной славы неизвестные «почитатели» проломили в Иркутске череп, после чего эту страшную рану пришлось очень долго залечивать. Нападали на Валентина Григорьевича и в Красноярске.
Из всей замечательной плеяды писателей-деревенщиков да и вообще прозаиков его поколения он был «номером 1» и при этом самым скромным, вовсе не тщеславным, даже не честолюбивым. Когда его книги печатались в СССР миллионными тиражами, выходили в переводах по всему миру, он чурался здравиц, тушевался при большом скоплении незнакомых людей, говорил всегда тихо, без какой бы то ни было позы. Однако голос Распутина был слышан далеко. К нему прислушивались (или делали вид, что внимали живому классику) в Кремле и на Потомаке. Западные «доброхоты» на волне его борьбы (против ЦБК на Байкале, поворота северных рек) пытались слепить из великого прозаика антисоветского оппозиционера.
Но диссидентом Распутин никогда не был, оставаясь плотью от плоти русского народа, принявшего и переработавшего внутри себя советскую власть вкупе с коммунистическим идеалами. В то же время он отчетливо видел оскудение русскости, духовности, совестливости в людях, моральное разложение властей предержащих.
Адекватное мнение о тех процессах составили себе многие, а Валентин Григорьевич смог описать это ярким и убедительным языком. Распутинское слово не гудело набатным колоколом, не рассыпалось бисером интеллектуальных парадоксов, просто и мудро текло, как река жизни, — прямиком в сердце русского читателя.
Родившийся в 1937 году в селе Усть-Уда Иркутской области, Валентин с ранних лет познал суровость тогдашнего, отягощенного войной быта. Мать работала в сберкассе, а вернувшийся с фронта отец стал заведующим почтовым отделением. Однажды у Распутина-старшего украли на пароходе сумку с казенными деньгами (похожее происшествие случится потом с героиней повести «Деньги для Марии»). Боевые ордена и медали ветерану-фронтовику не помогли: приговор — семь лет лагерей на Колыме. Полуголодное детство, измученная трудами и нахлынувшим горем мать, вынужденный отъезд за полсотни километров от дома, чтобы окончить среднюю школу, удивительная преподавательница, растолковавшая «трудному» подростку, что есть добро и доброта, — все это он опишет в своем знаменитом рассказе «Уроки французского». (Много позже та самая учительница, с которой он списывал образ, случайно обнаружит его книжку (и себя в ней) в магазине города… Парижа.)
Отучившись на историко-филологическом факультете Иркутского университета, Валентин поначалу осваивал в газетах крупных сибирских городов труд журналиста, выдавал бодрые репортажи и очерки со строительства Красноярской ГЭС, магистрали Абакан — Тайшет, промышленных предприятий и совхозов. Воспевал ударные вахты, активную общественную работу, гражданскую сознательность, благотворную силу коллектива. В его материалах звучали пафос покорения природы, возвышенная комсомольская романтика. Общепринятой «оттепельной» парадигмы он в молодости не чурался, но мало-помалу в официозной журналистике начали проявляться его глубокие авторские размышления, «экскурсы» в души героев очерков и статей, любовные зарисовки природы — прорастали зерна «фирменного» стиля.
Именно их приметил известный прозаик Владимир Чивилихин, приехавший в 1965-м на совещание молодых писателей Сибири и давший Валентину путевку в литературную жизнь. Первая книга рассказов «Человек с этого света» (1967), вышедшая в Красноярске, принесла ему некоторую известность. (Позже из своих учителей в литературе он выделит «шестидесятнических» Ремарка и Хемингуэя, а кроме них — Пруста, Бунина, Достоевского.)
Творческий рывок, который Распутин сделал за последующие три года, изумляет. «Последний срок» (1970), «Живи и помни» (1974) и, наконец, «Прощание с Матёрой» (1976) — эта «трилогия», уже начиная с первой повести, открыла для миллионов соотечественников в бывшем комсомольском журналисте превосходного писателя, тонкого мастера слова, глубокого душеведа — одним словом, классика. Великий талант проявился еще и в том, что проблематика произведений с первыми же переводами оказалась близка и понятна людям на разных континентах. Это была настоящая слава, и ей уже не могли подрезать крылья ни бдительные политруки, обнаружившие в «Живи и помни» оправдание дезертирства, ни зоркие «интернационалисты» гнезда Александра Яковлева, тщившиеся не допустить «возрождения русского шовинизма и поповщины».
Ущучить по этой линии Валентина Распутина было сложно: писатель не обличал «нерусь» и вырусь, не переругивался с критиками. Проникновенно говорил о русской боли, духовной красоте, совести. «Раньше ее видать было: то ли есть она, то ли нету. Кто с ей — совестливый, кто без ее — бессовестный. Теперь холера разберет, все сошлось в одну кучу… Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни», — обращается он к своим современникам через старую, мудрую Дарью («Прощание с Матёрой»).
Его пытались обвинять в неприятии научно-технического прогресса, однако «инкриминировать» ретроградство ему, прославлявшему в свое время стройки века, было просто-напросто глупо.
У него была стихийная душа-христианка, которая естественным образом привела его к православию. Тихо крестившись в 1980 году (при посредстве друга Владимира Крупина), Валентин Григорьевич всю оставшуюся жизнь так же негромко, не напоказ воцерковлялся.
Не признавать литературный и моральный авторитет Распутина было невозможно. Его произведения экранизировали и ставили на главных театральных сценах страны. Ему вручали ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, Госпремии СССР — в 1977-м за «Живи и помни» и спустя десять лет за повесть «Пожар». В последней автор незадолго до «перестройки», описав уничтожение огнем складов в поселке лесозаготовителей, ставит пророческий диагноз: скоро заполыхает вся страна, а что не сгорит, то растащат, да еще и убивать друг друга начнут за тряпки-барахло. «Просто край открылся, край дальше некуда. Еще вчера что-то оставалось наперед, сегодня кончилось». Писателя вроде бы и слушали, да не слышали, страна по роковой дорожке катилась к своему краху.
Поверив вначале в добрые намерения Горбачева, Валентин Распутин, по его словам, «сходил во власть», побывал депутатом Верховного Совета, членом Президентского совета, что «ничем не кончилось». Более того, его саркастическую реплику на съезде («А может быть, России выйти из Союза?»), произнесенную в ответ на громогласные обвинения в «русском колониализме», ловкачи использовали как якобы призыв к независимости РСФСР, и эту карту вскоре разыграли Ельцин со своей командой.
«Со стыдом вспоминаю, зачем я туда пошел. Мое предчувствие меня обмануло. Мне казалось, что впереди еще годы борьбы, а оказалось, что до распада остались какие-то месяцы. Я был как бы бесплатным приложением, которому и говорить-то не давали», — скажет он впоследствии в одном из интервью. (Мало кто знает, что в те годы благодаря личным усилиям Распутина нашей Церкви вернули Оптину пустынь.)
В июле рокового 1991-го он вместе с Юрием Бондаревым, Александром Прохановым, Людмилой Зыкиной и другими известными людьми подписал знаменитое «Слово к народу» — манифест-предупреждение об опасности распада государства, и за это Валентина Григорьевича стали называть «сталинистом», «красно-коричневым», а издательства отказывали ему в переиздании книг.
Свою принципиальную позицию он подтвердил в октябре 1993-го, выступив против ельцинского переворота, после чего резко разошелся с прежним товарищем Виктором Астафьевым, подписавшим позорное письмо либеральной интеллигенции (сей «документ эпохи» помнят под условным названием «Раздавите гадину»).
Все девяностые и начало нулевых Распутин писал жесткую, бескомпромиссную публицистику о погроме, который устроили в России новые власти. Произошедшее воспринимал как национальную катастрофу, а шансы на возрождение практически уничтоженного русского народа оценивал пессимистически. Да и как тут было не отчаяться, ведь то, о чем он предупреждал, свершилось в гораздо худшем, злобно-абсурдном виде. Под стать газетным и журнальным статьям были и его выходившие тогда рассказы: «Сеня едет», «В больнице», «Нежданно-негаданно», «Новая профессия», «В ту же землю», «Изба», «Поминный день».
Лебединой песней стала повесть «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003), где главной героиней вновь оказывается простая русская женщина. Узнав, что ее пропавшую дочь изнасиловал торговец-азербайджанец и что ему за это ничего не будет (представители всесильной диаспоры подкупили следователя), Тамара Ивановна своими руками мастерит обрез и, пронеся его в сумочке в здание прокуратуры, вершит правосудие над насильником.
Финальная мораль произведения понятна каждому, ну а то, что его «забывают» во многих сетевых библиографиях писателя, тоже неудивительно. Автора повести власть имущие обходили сторонкой до самой его смерти. Не привечал, понятное дело, и бомонд — для этой публики он был «чудак» и «чужак» (изрядно преуспевшим в этой жизни «господам» слышать голос совести народа было крайне неприятно).
«Россия изменила себе и продолжает изменять все больше… Перед нами уже не Россия, а ее расхристанное подобие, нечто иное и малоузнаваемое», — формулировал Валентин Григорьевич в беседах с Виктором Кожемяко. И все-таки вопреки всему писатель оставлял место надежде: «Все, что могло купиться на доллары и обещания, — купилось; все, что могло предавать, — предало; все, что могло согласиться на красиво-унизительную и удало-развратительную жизнь, — согласилось; все, что могло пресмыкаться, — пресмыкается. Осталось то, что от России не оторвать и что Россию ни за какие пряники не отдаст… Ее, эту коренную породу, я называю «второй» Россией, в отличие от «первой», принявшей чужую и срамную жизнь. Мы несравненно богаче: с нами — поле Куликово, Бородинское поле и Прохоровское, а с ними — одно только «Поле чудес».
Волшебство прозы и притягательность личности Распутина, пожалуй, лучше, точнее всех описал его друг, покойный ныне литературный критик Валентин Курбатов. «Он писал каждое слово, как Адам, поднимая его к свету и глядя, чтобы зернышко этого слова было видно, чтобы сквозь каждое слово было видно его начало. Вот почему нам так запомнились все его слова, почему они ложились в самое наше сердце, кто бы его ни читал — изощренные интеллектуалы, космонавты, крестьяне… Матушка Россия выбрала его из деревенских писателей — любимого, младшенького, последнего сына, и всю любовь в нем выговорила».
Материал опубликован в февральском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».
Источник