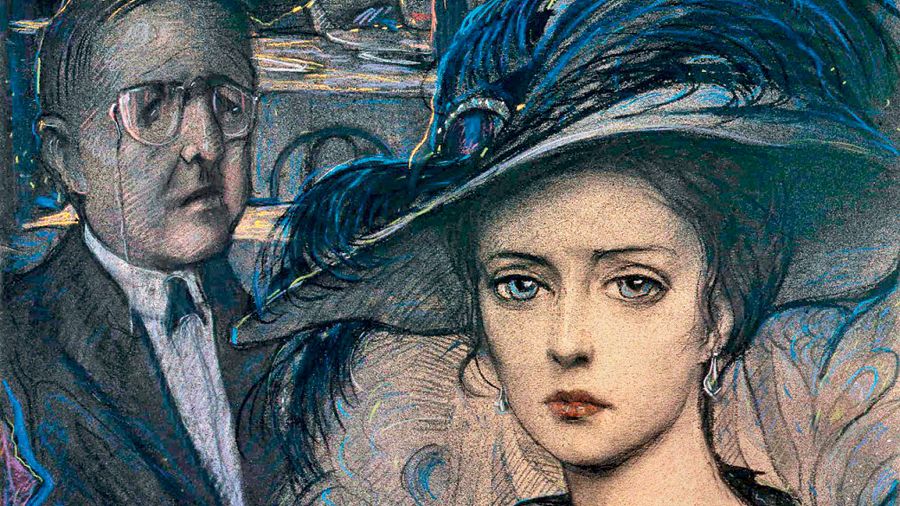20.02.2021
Из блистательной четверки поэтов Серебряного века, чьи фамилии начинаются на «Б» (Бальмонт, Брюсов, Белый, Блок), двое родились почти впритык, осенью 1880 года, 140 лет назад: москвич Борис Бугаев, вошедший в большую литературу под псевдонимом Андрей Белый — 14 (26) октября, петербуржец Александр Блок — 16 (28) ноября. Оба юбиляра принадлежали к наследственной, «столбовой» русской интеллигенции. Но по-настоящему роднят, сближают их иные, еще более существенные условия и обстоятельства. Маленький Борис появился на свет в квартире на углу Арбата и Денежного переулка, в центре «профессорской» Москвы. Его отец, математик и философ-позитивист Николай Бугаев являлся профессором, а затем деканом физико-математического факультета Московского университета.
Старик Яков Грот (академик, языковед, историк литературы, подготовивший первое в России академическое собрание сочинений Гавриила Державина, наиболее полное до настоящего времени) прислал тогда младенцу том своих сочинений с надписью как взрослому: «Борису Николаевичу Бугаеву». Другой академик (филолог, фольклорист, литературовед, историк искусства) любимый старичок Федор Иванович Буслаев три года подряд каждый день кормил мальчика рябиновой пастилой на Пречистенском бульваре. С лукавой приязнью поглядывал на малыша еще один академик, выдающийся историк Василий Ключевский. Боря запросто взбирался на колени ко Льву Толстому.
Соседями Бугаевых в доме на Арбате оказалась семья Соловьевых: младший сын Сергея Михайловича (опять же академика и видного историка) переводчик Михаил Сергеевич, его жена художница Ольга Михайловна и — через пять лет после рождения Бориса — их единственное чадо, будущий поэт и священник, полный тезка деда Сережа. Последний ко всему прочему — племянник известнейшего философа Владимира Соловьева и троюродный брат Блока. (Ольга Михайловна приходилась двоюродной сестрой матери великого поэта Александре Андреевне.)
Крохотного Сашу приняли на руки в ректорском флигеле Петербургского университета, ректором коего был дед новорожденного по матери, «отец русских ботаников» Андрей Бекетов. Тот был дружен с другим гением, первооткрывателем Периодической системы химических элементов Менделеевым. Именно Дмитрий Иванович посоветовал Бекетовым купить в Подмосковье имение Шахматово, по соседству со своим Бобловом, нечаянно предопределив таким образом драматическую личную жизнь своей дочери Любови, избранницы Александра Блока.
Такие непримиримо разные писатели, как Достоевский и Салтыков-Щедрин, любили беседовать с Андреем Николаевичем, бывали у Бекетовых дома. В кабинет любимого внука со временем перейдет старинный дедовский диван, на котором все они, конечно, по отдельности сиживали.
Белый и Блок узнали друг о друге еще в конце века, до своих первых публикаций, из рассказов Сергея Соловьева-младшего, приезжавшего в Петербург и дружившего с обоими. Александр показывал кузену собственные стихи, вдохновленные как умозрительной, возвышенно-рыцарской любовью к дачной соседке Любочке Менделеевой, так и мистическими грезами Владимира Соловьева о грядущем схождении на Землю Вечной Женственности, воплощающей красоту и любовь, которым предстоит обновить мир и духовно преобразить человечество:
Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Все в облике одном предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду, — тоскуя и любя.
Напряженно сосредоточенный на разгадке будущего Борис после Артура Шопенгауэра и Эдуарда Гартмана пришел за ответами как раз к Владимиру Сергеевичу, с которым впервые довелось встретиться в квартире его близких родственников, своих соседей. Образ Жены, облеченной в Солнце (Софии, Души Мира, Вечной Женственности или — на языке Блока — Прекрасной Дамы), изначально позаимствованный Соловьевым в Откровении Иоанна Богослова, а затем послуживший опорой для нового религиозно-философского учения, был для московского юноши необыкновенно дорог. Потому и ранние блоковские строки встречались им с восторгом — не только как стихи, но и как свидетельство духовной близости и родства душ.
Переписка между Блоком и Белым началась в самом начале 1903 года, и градус ее был так высок, что уже через два месяца, задолго до первой личной встречи, Александр пригласил Андрея приехать в августе в Шахматово на собственную свадьбу и стать шафером невесты.
С тех пор почти двадцать лет, до самой смерти Блока в августе 1921 года, они жили с оглядкой друг на друга, воспринимавшейся со стороны как постоянное двуединство. Но внутри эта доходившая до экзальтации дружба стала натыкаться на взрывные конфликты. Свободный в своем искусстве Блок мог позволить себе не только развивать соловьевскую символику, но и вышучивать ее почитателей, «мистиков обоего пола», например — в лирической драме «Балаганчик» (1906). Для Андрея Белого отклонение от доктрины, напротив, было недопустимым кощунством, и он резко осудил друга. А впоследствии назвал свою судейскую непримиримость борьбой за Блока (которая, заметим в скобках, была заведомо обречена на поражение).
В знаменитой «Незнакомке» (1906) мир горний уже забыт, а обыденный, загородный, дачный так узнаваем, так вещественен, что его цитатными деталями автор буквально забрасывал приятеля Евгения Иванова, позвав того однажды на прогулку в Озерки.
«Пошли на озеро, — записал в дневнике Евгений Павлович, — где «скрипят уключины» и «визг женский»… Потом Саша… указывал на позолоченный «крендель булочной», на вывески кафе. Все это он показывал с большой любовью. Как бы желая ввести меня в тот путь, которым велся он тогда в тот вечер, как появилась Незнакомка. Наконец привел на вокзал озерковский… Из большого венецианского окна видны «шлагбаумы», на все это он указывал по стихам… Поезда часто проносятся мимо… Зеленеющий в заре кусок неба то закрывается, то открывается. С этими пролетающими машинами и связано появление в окне Незнакомки».
А что до «пьяниц с глазами кроликов», то это можно было и на себя примерить: Блок заказывает бутылку вина на двоих, потом вторую, третью, приятель-трезвенник пытается его остановить… «Надо, чтоб пол начал качаться немного», — настаивает поэт, и все вокруг, как при легкой качке на пароходе, начинает плавно подниматься и опускаться.
В воображаемой незнакомке женственность, конечно, налицо, но какая-то она слишком чувственная, чересчур разогретая винными парами, чтобы быть по-соловьевски Вечной.
Для окончательного разрыва между Александром Блоком и Андреем Белым не хватало, пожалуй, лишь любовного треугольника, и несостоявшийся шафер, в отличие от законного супруга увлеченный земной телесностью Любови Дмитриевны, а не флером заоблачной Прекрасной Дамы, делал все, чтобы такая интрига разыгралась.
Сбегая из Шахматова в июне 1905 года после ссоры с матерью Блока, оскорбленный равнодушием его самого, Белый передал Любови Дмитриевне записку с признанием в любви. А затем, пользуясь странной отрешенностью друга, начал забрасывать ее охапками цветов, письмами с уговорами уйти от мужа, вместе уехать за границу. Забалтывался, безумствовал, грозил самоубийством, обещая броситься в Неву с Троицкого моста, посылал сопернику поневоле вызов на дуэль.
К весне следующего года Любовь Дмитриевна разрывалась между обоими. «Никакой уже преграды не стояло между нами, — вспоминала она свои встречи с Андреем Белым. — И мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и неутоляющих поцелуев». Однажды решилась поехать к нему домой. Уже уступая, позволила вынуть из волос тяжелые черепаховые гребни и шпильки… Но тут какая-то его неловкость отрезвила ее, и она, наскоро поправив прическу, выскочила на лестницу.
В растерянности советовалась с Евгением Ивановым, зная о его бесконечной преданности Блоку.
Три года продолжалась эта мучительная для всех троих неразбериха, после которой между бывшими пламенными друзьями сохранилась лишь «далековатая приязнь». А Любовь Дмитриевна, удержавшись от полной и окончательной близости с Андреем Белым, уже не уклонялась от связей с другими… Чужого младенца Блок принял и даже связывал с ним собственное обновление.
«У нас в столовой, за чаем, — рассказывала Зинаида Гиппиус, — Блок молчит, смотрит не по-своему, светло и рассеянно. — О чем вы думаете? — Да вот… Как его теперь… Митьку… воспитывать?» Мальчик прожил всего несколько дней…
Объединив свою лирику в три тома, Александр Александрович назвал их «трилогией вочеловечения». Эта живительная эволюция заметно потеснила, но вовсе не упразднила в блоковских стихах соловьевский миф. Иначе не появились бы строки, понятные только в символистской, популярной в начале XX века трактовке:
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
А вот почти то же у Андрея Белого:
Россия,
Страна моя —
Ты — та самая,
Облеченная солнцем Жена,
К которой
Возносятся
Взоры…
Блоку на его последнем творческом взлете, в поэме «Двенадцать» (январь-февраль 1918-го), подсказан Соловьевым едва угадываемый во тьме за вьюгой образ божества с кроваво-красным флагом. Николай Гумилев в одной из своих лекций сказал, что финал «Двенадцати» кажется ему «искусственно приклеенным». «Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? — ответил создатель поэмы. — Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: «К сожалению, Христос».
На третьем-четвертом месяце после Октябрьского переворота, когда писалось это произведение, достоверность поэтического свидетельства была для автора бесспорной, ибо творил он «в согласии со стихией». Намек на «соавторство» Владимира Соловьева обнаруживается в дневниковой записи за 4 марта 1918 года: «Я только констатировал факт: если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь «Исуса Христа». Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак».
Спрашивается, а почему «женственный», и отчего там, посреди земного ада, на голову Спасителя надет не терновый венец, а «белый венчик из роз»? Да все потому же…
Поэма вызвала резкое отторжение у интеллигенции. Остроумием блеснула Зинаида Гиппиус. Узнав, что к Блоку подселили двух красногвардейцев, сказала: «Жалко, что не всех двенадцать».
В споре с ним Андрей Белый сочинял в апреле 1918-го, по сути, свой вариант «Двенадцати» — поэму «Христос воскрес», где к развернутой картине Распятия и Воскресения «приклеил» клочковатые сцены современных ему убийств: трещат револьверы, лают пулеметы, хлещет кровь, в России заново разыгрывается всемирно-историческая мистерия. Однако безудержная патетика с проповедью подмяли личную причастность к событиям и живое чувство.
И в том своем сочинении, и в поэзии вообще он сильно уступал Блоку. Вершиной творчества Андрея Белого остался написанный в 1913 году роман «Петербург» (Владимир Набоков ставил его рядом с «Улиссом» Джойса), в котором, в частности, отразились и увлечение чужой женой, и конфликт с бывшим другом.
В день похорон Блока, 10 августа 1921-го, путь скорбной процессии проходил от дома на Пряжке, где умер Поэт, до Смоленского кладбища, где он был похоронен. Пройти эти пять километров, конечно же, можно и в одиночестве, в любой день и год, вспоминая при этом строки Анны Ахматовой:
Принесли мы
Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце, в муке погасшее,
Александра, лебедя чистого.
После его ухода Андрей Белый прожил еще двенадцать полных лет. Помимо «Воспоминаний о Блоке» (1922–1923), написал мемуарную трилогию «На рубеже веков», «В начале века» и «Между двух революций» (1930–1934). Снова и снова мыслью возвращался к гениальному ровеснику, спорил с ним и с самим собой.
Материал опубликован в ноябрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».